На медузе большой интересный текст про модели заражения. Приведу часть.
А есть ли альтернатива старым моделям?
Есть — но пока, увы, в основном теоретическая. В 1980–1990-е годы эпидемиологи, осознав неполноту и неточность старых методов, разработали целый класс сетевых моделей распространения инфекций. Главные их отличия от старых методов:
Они не рассматривают популяцию как однородный набор частиц с равными шансами на «контакт». Напротив, эти модели стремятся усложнить структуру контактов так, чтобы приблизить их к реальности. Моделируются отдельные группы внутри популяции — вплоть до каждого домохозяйства и сетей (профессиональные, транспортные и любые другие), связывающих с другими группами. Важная часть сетевых моделей — возрастные группы и структура их контактов, особенно для болезней, имеющих ярко выраженные возрастные отличия в заболеваемости и тяжести болезни (как в случае с коронавирусом).
Скорость и глубина распространения инфекции в таком случае зависят от плотности контактов. Очевидно, что для разных инфекций и в разных группах законы распространения будут очень сильно отличаться. Так, например, многие инфекции вообще не зависят от плотности населения: скажем, для скорости распространения малярии важна главным образом плотность «агентов» — зараженных комаров.
С респираторными заболеваниями все сложнее, но и в их случае можно найти много примеров, когда важна не скученность населения, а социальная активность членов групп (есть исследования, которые подтверждают, что зависимость параметров эпидемии от плотности населения не очень велика). Вероятно, все три заболевания — SARS, MERS и COVID-19 — как раз очень чувствительны к социальной активности каждой группы в популяции. Под «социально активными» вовсе не обязательно нужно понимать группы людей, которые до последнего ходят в бары и ночные клубы, посещают многолюдные собрания или ходят в гости в разгар эпидемии. К особо активным можно отнести многие профессиональные группы: вахтовиков, живущих в общежитии на далекой буровой, или врачей в инфекционной больнице.
Следствие неоднородности популяции — модели не оперируют единым для популяции коэффициентом воспроизводства R₀: для каждой группы он будет свой.
Последнее свойство может полностью поменять выводы моделирования: при одном и том же наблюдаемом R₀ могут получиться радикально разные предсказания «глубины поражения», группового иммунитета и скорости распространения инфекции.
Одно из исследований, адаптирующее сетевые модели к COVID-19, приводит такой «интуитивный» пример: предположим, в обычную (не инфекционную) больницу попал один зараженный коронавирусом. В больнице на девять одноместных палат приходится шесть врачей. Первый носитель инфицировал одного врача. Тот, вынужденный тесно общаться с большим количеством пациентов и коллег, заразил шесть больных и четырех врачей. На новых зараженных пациентах, лежащих в палатах, цепочка передачи вируса прервалась. А вот зараженные врачи инфицировали каждый по 10 человек — тоже в пропорции 60% пациентов и 40% коллег. Если после этого в больнице регулярно тестировать всех врачей и пациентов, то будет зафиксирован коэффициент воспроизводства 3; согласно моделям с однородным населением, это означает, что во всей популяции должно заразиться две трети членов, пока будет достигнут «групповой иммунитет». Однако если учесть, что врачей в популяции всего ⅒, то для прекращения эпидемии в больницах будет достаточно, чтобы заразились всего около 8,3% населения (⅚ всех врачей).
В случае со смертельными коронавирусами внутрибольничная передача — один из важнейших путей распространения эпидемии. Но не только она — все три вируса показывают высокую (если не рекордную) «неоднородность» заражения: грубо говоря, очень маленькая доля инфицированных (так называемые суперспредеры) ответственны за большую часть заражений. Эти суперспредеры, скорее всего, входят в свои группы особенно социально активных (где зараженные ими «одногруппники» тоже имеют все шансы стать «супер»). Зараженные ими члены менее активных групп, вероятно, часто являются для вируса «тупиковым путем развития», то есть сами в среднем заражают менее чем одного человека.
В последние недели появилось много работ с оценкой роли суперспредеров в распространении нового коронавируса (на основе реальных доказанных случаев заражения). Из них следует, что около 10% инфицированных ответственны за 80% новых заражений. То есть большая часть новых заражений происходит внутри самых активных групп, которые и становятся главными жертвами эпидемии. Стоит им достигнуть своего собственного порога «группового иммунитета», как эпидемия сойдет на нет. В целом для популяции этот порог будет означать заражение около 10% членов, считают некоторые ученые.
То есть карантин был не нужен?
Нет, это не так. Ограничения, введенные правительствами разных стран, сделали именно то, что должны были: спасли жизни и избавили больницы от перегрузки. В начале эпидемии SEIR-модели дают точно такие же предсказания, что и сетевые. И только после прохождения пика показатели начинают отличаться: в старых моделях после снятия карантина должна немедленно последовать новая волна заражений; в сетевых моделях вторая волна может прийти с задержкой или не прийти вовсе. Все зависит от того, переболели ли все самые активные группы.
https://meduza.io/feature/2020/06/29/pochem...-volna-epidemiiCколько людей переболело в Москве?
Никто не знает точно: это можно было бы выяснить с помощью тестов на антитела по выборке, которая соответствует структуре населения со всеми его внутренними группами. В Москве было проведено тестирование, которое показало, что носителями являются 16–20% (в зависимости от округа).
Однако, увы, выборка не соответствует строгим критериям. Бесплатное тестирование производится по приглашениям от мэрии. Скорее всего, большая часть согласившихся пройти тест подозревают, что переболели ранее, а потому выборка сдвинута в сторону положительных результатов. Однако этот недостаток можно попробовать исправить. Экономист из ВШЭ Татьяна Михайлова придумала, как устранить перекос в сторону положительных тестов. Результат: из официальных данных по носителям антител нужно вычесть 5–6 процентных пунктов. Итог: на начало июня в столице переболели 10–14% жителей.
Сказать точнее, ждет ли нас вторая волна и, если да, какой силы, мешает то, что мы буквально ничего не знаем о происходящем в большинстве групп населения. Прежде всего, речь идет о тех, кто до сих пор не был социально активен, а значит, мало участвовал в распространении вируса. Если верить сетевым моделям, почти вся собранная статистика (скорость распространения эпидемии, значительная часть смертности и госпитализаций) относится к активным группам; заражения в других группах столь малы, что в общем потоке данных отследить их динамику почти невозможно. Поскольку, как считают многие авторы новых моделей, «активные», по крайней мере в Москве, достигли группового иммунитета, скоро мы увидим реальную картину в остальной популяции. Возможны варианты:
Если коэффициент воспроизводства R₀ в малоактивных группах ниже единицы, то мы увидим длинный «хвост» из заражений, число которых постепенно будет убывать: вирус будет медленно распространяться по новым группам, пока эпидемия окончательно не закончится. «Хвост» может быть таким длинным, что большая часть заражений произойдет уже после прохождения пика эпидемии. Возможно, начало этого «хвоста» мы видели в мае и начале июня, когда R₀ в Москве стабильно был около единицы.
Если в малоактивных группах коэффициент выше единицы, эпидемия снова начнет распространяться. Сначала медленно, а затем, возможно, быстрее: вирус укоренится в новых группах и найдет там самые активные цели.
Наконец, не исключено, что после снятия карантина более активными станут группы, до сих пор находившиеся на самоизоляции: люди, работавшие удаленно, выйдут в офисы, откроются предприятия сферы услуг и культуры; наконец, в бары и ночные клубы потянутся официанты, бармены и завсегдатаи, привыкшие социализироваться именно у стойки или на танцполе.
Последние два варианта могут привести ко второй волне в Москве. Тем более она вероятна в регионах (их подавляющее большинство), где не переболели даже активные группы, уже получившие групповой иммунитет в Москве. Как раз такая картина наблюдается в США, где после снижения темпов заражения в Нью-Йорке начался рост эпидемии во многих штатах. Россия во многом повторяет траекторию эпидемии в Соединенных Штатах, но с отставанием в две недели.
В Европе и США появились первые наметки прогнозов, основанных не на теориях о гипотетических активных и неактивных группах, а на исследовании реальных особенностей передачи коронавируса и реальных контактов людей из разных возрастных, географических, профессиональных и социальных групп во время пандемии.
Если коротко, результат британских исследований неутешительный: R₀ будет сохраняться на уровне около единицы, если не предпринимать никаких сдерживающих действий; у 50% инфицированных он будет выше единицы, даже если они быстро самоизолируются после появления первых симптомов (прежде всего, пострадает их семья). Не удастся остановить распространение вируса по разным группам лишь масштабным тестированием и отслеживанием контактов заразившихся (даже с помощью мобильных приложений, которые, как предполагается, установят себе 53% британцев). Потребуется периодически вводить локальные локдауны. А надежно остановить вторую волну можно будет только в случае, если британцы сохранят очень низкую социальную активность: уменьшат число ежедневных контактов до четырех — с 20, которые были у них в среднем перед эпидемией (это, похоже, рекорд Европы).
![]() Коронавирус COVID-19 еще не кончился, часть 9
Коронавирус COVID-19 еще не кончился, часть 9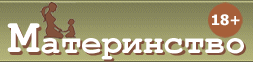






 29 июн 2020, 20:21
29 июн 2020, 20:21







![[?]](style_images/view.gif)

