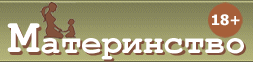Едем!.. Едем.
Как знать! будь у меня наблюдательности и таланту столько, сколько у господина Радищева, и я тоже мог бы составить остроумные путевые заметки, чтобы потом, при встрече, позабавить тебя, друг мой. Однако, признаться, дорога трудна и недостает сил интересоваться тем, что, по мнению господ писателей, достойно внимания. Въезжаем ли мы в город или в село, мне совершенно не хочется знать, сколько в нем обитателей, да каково им живется, да процветают ли они, а лезут в голову, как назло, предметы самые прозаические, даже сказать грубые. Вот и теперь, когда я мысленно составляю сие послание, в надежде когда-нибудь после перевесть его на бумагу и оставить потомкам полный отчет о нечаянном моем путешествии, возле оригинального нашего экипажа стоит крестьянская девочка лет семи, с босыми ногами и в синем платьи, и смотрит на нас, проезжающих, внимательно и строго. Ее старшая сестра, настоящая сельская красавица, поднесла нам квасу напиться, однако же мне милее младшая сестрица, не выучившаяся еще смеяться напоказ и притворно занавешиваться рукавом, вынуждая проезжих господ заглядывать ей в лицо так и этак, с разными хитростями. И думается мне, забуду я и этот город, и это село, а девочку эту, и ее босые ноги, и платье, и сурьезное личико помнить буду во всю жизнь мою. Отчего бывает так, друг мой, что предметы маловажные привлекают наше внимание гораздо сильнее, чем то, что на самом деле ведать надлежит и что необходимо нужно нам для руководства собственною жизнию? Впрочем, это вопрос из ряда философических. Предлагая их, словно любуешься сам собою, а мне это теперь и грустно и несносно, посему оставим философию до времен благоприятнейших.
Едем!.. Глядя на деревенскую девочку, я, мой друг, веришь ли, вспомнил, как расставались мы с тобой менее недели назад и как печально было наше прощанье, хотя и в чаянье скорой встречи. Добрые мои товарищи, видя, что нас уж торопят и надобно выезжать, разделили нас ласково, хотя и настойчиво… но полно, полно, не хочу тебя и себя огорчать сим напоминаньем. И то – первая ли это разлука в нашей жизни? Надлежит переносить ее мужественно, друг мой. Бывало уж, что мы и целый год не видались. Бог даст, и нынешняя тоска продлится не долее, а до тех пор укрепимся духом и не станем попусту проливать слез.
Едем!.. Поневоле пожалеешь, что дорога худа и помногу писать невозможно – мучают не только мысли тягостные, но и невозможность разделить их с тем, к кому искренне привязан. Вот въехали в большое село; спутники наши на вопрос о том, как оно называется, со всем апломбом невежества отвечают «не знаем и знать не хотим» - по правде говоря, я давно уж постиг, что они за люди, и не имею никакого желания с ними разговаривать, хотя бы и о самых пустяковых материях. Тяжко путешествовать, не имея возможности покинуть спутника грубого или дерзкого. Однако что же делать!.. Смиримся и с этим. В селе большая колокольня, и ежели долго смотреть на самую верхнюю ее точку, от усиленного внимания начинает казаться, будто колокольня обращается вокруг собственной оси. Это явление называется оптический обман. Не худо было бы также описать ее тебе, друг мой, но я в таковых описаниях не мастер и решительно не могу судить, хороша колокольня или дурна, соразмерна или безобразна. Она велика, вот и всё. Здешние жители любопытны, даже несколько более, чем прежде – они не ограничиваются посмотрением, но также и засыпают нас вопросами, и я не могу назвать их интерес к моей скромной особе исключительно лестным. Так, должно быть, краснокожие дикари разглядывали европейцев, впервые прибывших в их края. Впрочем, поселяне добры, как всегда, они с сочувствием и без насмешки относятся к тем, кто с непривычки худо переносит путевые тяготы. Один из товарищей моих, изнемогши от тряски и от жары, заснул мертвым сном, низко свесив голову, и, прежде нежели мы успели то заметить и избавить его от прилива крови, какой-то добрый старик уложил его навзничь и прикрыл березовою веткою от солнца, да так ловко и бережно, что товарищ мой даже не проснулся. Что делать, друг мой! Помнится, в четырнадцатом году езда была гораздо веселее, хотя и затруднительна. Доводилось мне и на земле спать, и под дождем, и едва ли не на льду, подложив под голову седло и накрывшись плащом, и всё переносили мы бодро и радостно, пускай от усталости порой валились с ног, а на тех, кто от ран или болезней отсылаем был в лазарет, смотрели чуть не с завистью: счастливец! теперь-то отдохнет хоть немного! Нас одушевляла святая цель наша. Расскажу тебе, кстати, одну историю, которая случилась со мною. В тринадцатом году, когда я служил адъютантом у генерала Б., однажды поздно вечером тот вышел из своего кабинета в доме, где мы тогда квартировали, и вручил мне донесение, которое надлежало отправить немедля. Правду сказать, мне не хотелось ехать ночью, да еще в дождь и по разбитой дороге; тем более что за ужином мы с друзьями распили тайком несколько бутылок шампанского. Надеясь избавиться как-нибудь от этого поручения, я вздумал разбудить незнакомого подпоручика, который, прибыв в ставку часом ранее, спал на полу в зале, и отправить его вместо себя, сделав вид строгий и начальственный, как если бы я в самом деле имел право распоряжаться. Однако же, подпоручик, не смутившись, отвечал, что господин главнокомандующий дал поручение мне, так не угодно ли отправляться; а ежели это поручение не важное, то можно отправить дежурного унтер-офицера, вместо того чтобы будить усталых с дороги людей. На спор наш вышел генерал и дал мне порядочный нагоняй, сказав, что ежели я утомлен и не в силах себя превозмочь, то должен отправиться в постель, а на мое место сыщет он кого-нибудь порасторопнее. Теперь смешно, а тогда впору провалиться со стыда было.
Не верь, впрочем, друг мой, кто скажет, что в молодости многое переносится легче, нежели в зрелые годы. Юность полна сил, это правда, но она нерасчетлива, и стойкости у юношей мало, более от тщеславия, нежели от здравого рассудка. Да и то – не из смирения свершаются подвиги, а из гордости и из любви. Тебе, милый друг мой, ведомо о том. Едем!..
В очередном селе – и мне даже удалось узнать его название, Михальцево – подстерегала нас небольшая неприятность. Один из друзей моих, торопясь соскочить, впопыхах зацепился за подножку ногою и чуть было не грянулся с размаху оземь. Что перечувствовали мы, когда в толпе простого народу, сошедшегося, чтобы поглазеть на приезжих, раздался смех! Товарищ мой, чуть не плача от смущения и вдобавок с расшибленной ногой, скрылся в доме станционного смотрителя, так что мы едва за ним поспели. Вообще заметил я, что смеялись, скорее, мещане, нежели крестьяне – народ грубый, бесчувственный и достаточно развращенный привычкой к услужению.
Привыкши угождать господам и мерить их достоинства деньгами, а не качествами души, люди такого сорта охотно смеются над теми, кто окажется в затруднительных обстоятельствах, хотя бы и не по своей вине. Как будто, споткнувшись или обробев невзначай, человек теряет в их глазах наполовину и становится гораздо менее достоин уважения, чем пьяный купец, который бьет на их головах бутылки, или отставной генерал – «крикун, удавленник, фагот». (Помнишь ли милого Александра Сергеевича?) Падать прилюдно доводилось особам и поважнее, чем мы, грешные. По моему мнению, гораздо унизительней растянуться в бальной зале или на гулянье в парке, где увидят тебя десятки знакомых и передадут всему городу, да еще и перетолкуют на свой лад. Впрочем, было в Михальцеве со мной и забавное приключение: когда молодому послушнику, из простых, сбиравшему подаяние на монастырь, опустил я в кружку гривенник, назвал он меня ласково «дедушкой». Хорош дедушка! Мне нет и тридцати пяти. Пускай голова у меня наполовину седа, но неужто горести и слезы последних восьми месяцев обратили меня в старца? Что ж, пусть так; старики мудры. Если пережитое придало мне мудрости, то ты первая не пожалеешь о том, друг мой. Ты всегда горевала о моем легкомыслии!
Едем!.. Мы проезжали нынче удивительно красивую долинку, в которой протекала быстрая речка, и я, при всей несклонности моей любоваться окружающим пейзажем, начал было составлять в уме описание ее, чтобы отвлечься от грустных мыслей, как если бы то был не я, а какой-нибудь романический герой, едущий по сердечной надобности. И что ж ты думаешь, друг мой? Я поймал себя на том, что, подбирая слова, словно беру их уже готовыми из описаний прежде бывших авторов. Если река, то непременно как серебряная лента, если роса, то как жемчуг. Каково! Неужто теперь невозможно назвать речку чем-то иным, кроме как серебряной лентой, только потому, что так делали какие-то французы, или немцы, или наши русские авторы, почитаемые ныне лучшими. Последовать их примеру – прослывешь банальным, примешься нарочно изыскивать что-нибудь свое – назовут экстравагантным, и не знаю, что хуже. Отчего ж не наоборот? Лента как речка, жемчуг как роса на лугу, и проч. Слушай, друг мой, что я выдумал: трава на этом лугу точь-в-точь такого цвета, как то платье, которое сшила ты себе минувшей зимой. Вот вам, господа критики! Ты смеешься, милый друг? А мне только того и надо, чтобы развлечь тебя и позабавить. Довольно уж я доставлял тебе огорчений.
Я видал нынче… нет, полно притворяться – все мои мысли только о тебе, и никакие красоты, никакие диковины и приключения, ни даже самое искреннее доброжелательство товарищей моих и случайных встречных не развлекут меня и не заставят позабыть о главной моей утрате. Как бы я ни занимал себя, утешиться невозможно, разве только мыслью о том, что разлука эта не вечна, как не вечно – надеюсь! – и невольное мое путешествие, причинившее уже столько моральных и физических страданий. Едем, едем!.. куда – Бог весть. Но там, надеюсь, мы свидимся с тобою, и я обниму тебя, с тем, чтобы не выпускать никогда более. Прости мне этот крик души моей, я измучен совсем. Я верю, мы свидимся там – в Сибири.
![]() #35849 | Полли Перкс
#35849 | Полли Перкс